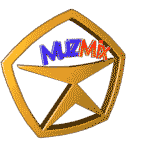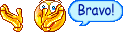Небесный Список:Он не был Богом
Дальше идти было некуда.
Этот зверь, что лежал у него в ногах - «первая ласточка».
Их догнали. Нашли. Это было немудрено.Это их дом. Это их земля. А они с Серым гости. Непрошенные.
Он положил свой автомат - справа, Сережкин - слева. Гранату запихнул в «лифчик», вытащив наружу кольцо.
«Что еще? А? Покурить? Серый? Курнешь?» Тот слегка кивнул.
Достал помятую пачку «Новости» с последней сигаретой.
Ты смотрел на меня так, как будто я был Богом…
А я, честно говоря, хотел бы быть им.
Пусть на мгновение. Лишь для того, чтобы спасти тебя.
Но я был всего лишь медбратом, санинструктором, младшим сержантом, твоим другом, и простым смертным, таким же, как и ты.
С небольшой разницей. В моей шее и в ключице не сидели две «духовские» пули.
Я был всего на всего простым смертным, твоим другом,
а не Богом. А это здесь на войне, значило порой больше, чем сам Господь.
Я был больше, чем он Сам. Я был твоим Другом.
Даже если бы я и им и не был, я все равно также продолжал бы тащить тебя, истекающего кровью, на себе.
Продолжал бы тащить, как это делаю сейчас, как это делал полчаса назад.
Как буду это делать через час, два, три…сутки. Как тащил бы, и ты меня, случись это со мной.
Все что я смог сделать, это единственным индивидуальным пакетом, чудом завалившимся за надорванную подкладку своей,
теперь уже пустой и ненужной брезентовой сумки, с нашитым на когда-то бывшем белом круге красным крестом,
попытаться замотать твою рану, пульсирующую горячей кровью. На вторую пошли два рукава от тельняшки.
Но я понял, что это пустая затея уже через десяток минут, когда по моей щеке поползла тягучая дорожка от виска к подбородку.
Дорожка от твоей крови.
Боже ты мой, я не знаю, что отдал бы сейчас за то, чтобы моя сумка была такой же полной, как утром.
Но это было утром. А сейчас солнце стояло в зените. А мы с тобой стояли под этим солнцем. Точнее стоял я.
А ты висел на мне, остановившемся на небольшую передышку, перед очередным броском вверх, к перевалу.
Впрочем, какой там бросок... Скорее ползок. Потому что, несмотря на мои метр восемьдесят, ноги твои все же волочились,
и я чувствовал каждой своей клеткой тела, как твои ботинки постукивают о неровности, и эта монотонность убаюкивала.
И больше всего я боялся, что ненароком вырублюсь, кану на секунду в сон, ослаблю свои руки, и выроню тебя.
Я уже не окликал тебя. Знал - бесполезно. С такой раной, какие там ответы…
Что я мог сделать, это время от времени кое - как стаскивать тебя со своих плеч, и пока ты закрыв глаза, тяжело дыша через нос, отхаркивал сгустки черной крови, ждать, и молить Господа, Аллаха, и еще кого там…чтобы мы дошли. Вернее, ушли от того страшного места.
Ушли оттуда, где я опустошил все свои медицинские запасы перевязочных пакетов, промедола, и всего прочего,
чем была забита под самую завязку моя сумка, которая теперь бесформенным жалким зверьком приклеилась к моей спине,
прижатая твоим горячим телом. Ушли оттуда, где остался весь наш взвод. И совсем не кстати, в мозг сначала потихоньку,
как бы на разведку, затем все смелее и смелее, настойчиво лезла и лезла чья-то фраза: «И позавидуют живые - мертвым!»
Это о них? Нет, врешь! Нас так не взять… По магазину пусть неполному на каждый автомат, и вот она: он время от времени
нащупывал, в кармане ребристую выпуклость «лимонки».
«Пробьемся, да Серый?» Бубнил он под нос, и сам себе отвечал:
«Пробьемся! Где наша не пропадала, а Серый? Бывало ведь и пожарче, а браток?»
Вот только этого ну ни как он не мог ожидать.
Здесь все оказалось совсем не так, как в фильмах про войну, где показывали, как по следу наших разведчиков, уходящих от погони,
идут собаки. Идут по следу, и лают. Эта, прыгнувшая на спину, была обучена иначе.
Она догоняла молча. Молча и сиганула Сережке на спину. Но напоследок, животный природный инстинкт, все же выплеснулся в виде победно-удовлетворенного рыка.
Вот тут-то он все и понял. Да поздновато. От неожиданности, а больше от страха и боли за друга, растерялся.
И упал под тяжестью двух тел: человеческого и звериного. И пока черное в седых подпалинах животное стараясь подобраться
ближе к горлу, рвало плечо друга, пытающегося неловко и беспомощно отгородиться локтем от смрадной пасти, он, ломая ногти,
рвал с шеи, один из автоматов, путался в брезентовых ремнях, матерился, бил ботинком в поджарый бок псине, орал не своим голосом, орал, не понимая что.Поводя стволом из стороны в сторону, лихорадочно пытался прицелиться, выбирая в клубке рук, ног, голов, спин нужную мишень. И дикий вопль булькающего кровью, прорезавшегося голоса друга, подстегнул похлеще плети:
«Санька! Прикладом, при-кла-до-о-о-ом, су-у-у-ку. Прик-ла-а-а-до-о-о-м-мм…ммать ттвою…За-а-г-ры-зё-о-т».
И отрезвев в миг от этого безумного крика, уже осмысленно, расчетливо бил и бил лязгающим автоматом, по голове,
до хруста, до бурых брызг, разлетающихся веером, до белой кости, до разлетающихся по ветру клочков жесткой шерсти.
И разжимал потом штык-ножом челюсти, сомкнувшиеся мертвой смертельной хваткой на плоти человеческой,
и подкатывала тошнота от вида желтых клыков в розовой пленке крови, с кусочками человеческого фарша,
и не хотелось слышать, как скрежетал зубами дружок, и не хотелось видеть, как маска боли выворачивает его лицо.
И кромсал впопыхах ножом остатки своего тельника, мотал, подкладывал, подсовывал под взлохмаченное собачьими зубами хэбэ,
лоскуты в бело-голубую полоску, вмиг становящиеся бурыми.
А потом сидел, положив голову друга себе на колени, прислонившись спиной, к теплому мшистому валуну.
Сидел, зависнув, наклонившись над его лицом, так, чтобы солнце не слепило глаза.
Курил, и проклинал эти горы, эту страну. И жалел, что он не Господь.
Он не был Богом…Он был просто его другом.

 Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи, активировавшие аккаунт!
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи, активировавшие аккаунт!
 1310
1310
 5
5